Англо-капитализм и теория цивилизации-5
Локализм, как наиболее базовое, фундаментальное явление, в экономике имеет формулу: «рост доли в системе важнее её охвата». Наиболее очевидные, базовые истины труднее всего понять, а потому прошу читателей напрячься и рассмотреть примеры, разъясняющие и внутреннюю логику, и конечную деструктивность локализма. Вот условный завод (или ферма, или шахта, что угодно). На нём работают, допустим, 40 человек. Эти люди, находясь в системе производственной кооперации, вырабатывают 400 единиц реальной стоимости. Исходя из этого понятно, что средний заработок на заводе будет 10 единиц.
Теперь представим себе ситуацию, что завод закрылся, всех выгнали, остались только трое человек. Корпуса они сдали под склады, и получили за это 60 единиц реальной стоимости. Математики могут подсчитать насколько снизилась эффективность использования помещений завода: вырабатывал 400, стал вырабатывать 60!
Но теперь выручка делится не на 40 человек, как раньше, а «соображается на троих». Из чего следует, что средняя зарплата на бывшем заводе выросла в два раза! Ведь было в среднем 10 единиц на человека, а теперь в среднем 20 единиц.
Если локализовывать систему (что на наших глазах много лет делают локалисты, как за бугром, так и у нас) – то возможен рост личной доли участника системы при снижении общей эффективности этой системы. Именно то, о чём мы говорим: когда рост системной доли важнее системного охвата.
Выведенная нами формула «оптимизации» и «сокращающей выгоды» — универсальна. Разумеется, не любое сокращение охвата системы ведёт к росту доли её участников! Иные циклы разорви (как трубопровод Газпрома) – и ничего не останется. Но очевидно и другое: в некоторых случаях определённое сокращение охвата системы оказывается источником долевой прибыли внутри неё. И эти некоторые случаи – не такие уж и редкие!
Локалист не исходит из необходимости сохранения людей, «сбережения народа» как высшего приоритета. В том и заключается его локализм, что его приоритет – личная выгода. А в производственную кооперацию с другими он вступает только тогда, когда это прагматически необходимо, когда без этого не возникнет нужного количества продукта.
Если ситуация меняется, если прежнего количества работников в системе кооперации и обмена уже технологически не нужно – локалист пытается сжимать охват системы, мотивируя это ростом своей доли в ней.
И впервые эту формулу иллюстрирует именно английское национальное хозяйство! Дело в том, что классическое феодальное хозяйствование практически не знало лишних рук, безработицы. При крайне низкой производительности и натуральном хозяйстве оно вбирало в себя, как губка, всех, кого угодно, и добровольно и принудительно, лишь бы заставить работать на феодала. У крепостника количество «душ» — выражение его богатства. Крепостник не мается вопросом – как ему прокормить тысячу душ, и как их кормить, если их станет две тысячи.
Но ситуация меняется, когда хозяйство из натурального превращается в товарное. А раньше всего это случилось в Англии.
Необходимо с самого начала подчеркнуть ту роль, которую в экономическом развитии Англии сыграла шерсть. Она явилась как бы основной хозяйственной артерией новой, товарной Англии. История экономики знает множество т.н. «моно-товаров», вытесняющих все остальные товары из национального производства (т.н. «голландская болезнь»). В Нидерландах, давших имя «голландской болезни» таким товаром на какое-то время (кстати, недолго) стал газ[1]. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике. В России был монотовар – меха, пушнина. А ближе к нашему времени – хлеб, хлебный вывоз. Гана очень сильно пострадала при падении мировых цен на какао – потому что одно время она ничем, кроме выращивания какао, не занималась. Примеры можно множить, но самый ранний пример моно-товара и «голландской болезни» — это английская шерсть, начиная с глубин средневековья!
Средневековая «Книжка об английской политике» утверждает, что без английской шерсти не могут существовать ни Фландрия, ни Италия. Объясняется это значение английской шерсти ростом суконной промышленности в городах Фландрии и во Флоренции. Английская шерсть была сырьем, на которое опиралась промышленность этих центров.
В связи с ростом вывоза шерсти происходят первые существенные сдвиги в экономике Англии. Конечно, не все экономическое развитие Англии определялось вывозом шерсти, оно определялось рядом достаточно сложных причин, но наличие в Англии этого ценного сырья, которое представляло особо притягательную силу для континентальной промышленности, оказалось решающим для темпов ее развития.
Со второй половины XVI в. — вывоз шерсти начинает заменяться вывозом сукна. В 1564 г. при общей сумме экспорта 1 097 тыс. ф. ст. около 900 тыс. падало на сукно.
В начале XVII в. шерсть и сукно составляли 90% экспорта, достигавшего суммы в 2,5 ман. ф. ст. В связи с этим происходит и изменение в структуре самой внешней торговли. Рост ее отмечается значительными изменениями в организационных формах капитала.
Вся внешняя торговля монополизируется в руках нескольких торговых компаний, организованных на монополистический лад. B XVI в. руководящей компанией была так называемая компания купцов-авантюристов[2]. Компания эта возникла еще во второй половины XV в. Окончательное закрепление за ней ее монополий относится ко времени первых Тюдоров. В 1505 г. она получила от Генриха VIII хартию, расширившую ее самоуправление и узаконившую ее монополистические притязания в области сбыта сукна. Рыночными пунктами компании на континенте служили (до 1485 г.) Брюгге, Антверпен, Гамбург, Штаде, Миддльбург и т. д.
Сфера ее деятельности охватывала северную Францию, Нидерланды, часть северной Германии и часть Дании. По настоянию купцов-авантюристов королевская власть нанесла удар иностранному торговому капиталу. «Стальной Двор», лондонское подворье ганзейских купцов, в 1578 г. был закрыт.
По своей внутренней структуре торговые компании XVI в. делились на два основных разряда: на компанию «привилегированные», на «регулируемые», и на компании акционерные. В привилегированных компаниях их членам предоставлялась свобода индивидуальных действий, сопряженных с индивидуальным риском. К участию в компании «купцов-авантюристов» допускались ученики сыновья членов компании, а также лица, способные уплатить членский взнос в 200 ф. ст.
Право участия в торговых операциях компании регулировалось в зависимости от стажа. Сами члены компаний, купцы, не получали права производства торговых операций в любых, произвольных масштабах. Так, например, пятнадцатилетний стаж позволял члену компании повесить свою долю в вывозе компании до 1000 кусков сукна в год. Право на участие в вывозе называлось «стинт». Этот стинт регулировался в зависимости от стажа и от размеров членского взноса.
Компания купцов-авантюристов насчитывала в 1601 г. около трех с половиной тысяч участников. Так, по крайней мере, определяет число ее членов Уиллер, автор экономического памфлета «Трактат о торговле». Но из этого количества реальных экспортеров было всего 300-400 человек. Остальные были мертвыми душами, людьми, которые числились в составе компании, но участия в вывозе не принимали. Они имели право на определенную долю, на свой стинт, но это право они переуступали, перепродавали основным экспортерам. Таким образом, и внутри компании было много фиктивных купцов, которые цеплялись за свое положение членов компании, потому что могли извлекать из него некоторые доходы. Однако «регулируемые» компании являлись организациями более примитивного характера, чем компании акционерные.
В таких компаниях капитал отдельных участников объединяется для общих предприятий, свобода каждого отдельного акционера ограничена, он выступает не на свой страх и риск, а лишь как пайщик, причем доля его в барышах предприятия обусловливается размером его взноса. Во второй половине XVI в. в Англии торговые компании обоих типов росли как грибы.
+++
В сущности, описываемые процессы, начиная из глубин средневековья, задолго до английской буржуазной революции способствовали становлению сверхприбыльных и сверхлокальных систем. При этом сверхприбыль образовывалась за счёт локализации, сжатия числа участников обмена, а стремление к локализации стимулировала сверхприбыль. Мы говорим о XV-XVII веках в Англии, но базовые формулы локализма не меняются и по наши дни. Например, схема приватизации в ельцинской России (на базе моно-товара, нефти и газа) ничуть не отличается от схемы «огораживаний» средневекового крестьянства в Англии!
Правильно установленная экономическая закономерность не имеет привязки к конкретному времени, она действует во все века. И действует, в основе своей, неизменно. И потому так важно знать отличия локализма от «этики служения» в рамках культа человечности.
Если мы хотим лучше понять, что давным-давно творилось с английской шерстью, нам достаточно припомнить пережитое нашим поколением время «приватизации» и гайдаровской «шокотерапии». А именно: в относительно-однородной массе потребителей (они же производители) формируются шанкры локальной сверхприбыльности. Происходит не просто поляризация (процесс более или менее естественный), а силовое и сознательное расщепление однородной массы на сверхнаделённых и полностью обделённых.
Хозяйство более не натуральное, оно товарное, оно живёт уже не по законам экономики (домостроительства), а по законам хрематистики (финансовой хищности). Ему не нужно больше производить бесчисленное множество разных натуральных благ, от бензина и тканей до редиса и зубных щёток. Ведь есть супер-товар (шерсть, нефть, пушнина, хлеб, какао и т.п.) – и кажется умнее все силы бросить на него. А остальное получить через механизмы товарообмена извне.
Зачем в Англии выращивать хлеб, если во Франции он дешевле (чисто по климату), и труд, затраченный в Англии на шерсть, даст больше хлеба, чем труд, затраченный в Англии на выращивание хлеба?
Всё это хрестоматийно описывал ещё Д.Рикардо, но вот вопрос, который Рикардо перед собой не ставил: а куда девать тех, кто раньше выращивал хлеб? Простой ответ: перевести их на более выгодное производство шерсти (нефти, какао и пр.). Но ведь их там в таком количестве просто не нужно!
Есть технически-необходимый коллектив, и есть технически-избыточный коллектив. Избыточные на производстве люди не добавляют стоимости, а наоборот, съедают её. И вырастает отсюда зловещий, геноцидный вывод: раз без них можно обойтись, то нужно обойтись без них!
Люди, забравшие в свои руки моно-продукт (первыми в истории это сделали английские торговцы шерстью) не хотят принимать в свои ряды «нахлебников». Их обменный цикл замкнулся на весьма узкой локации, внутри которой всем выгодно и всем хорошо. И главный вопрос в том, чтобы оградить эту локацию от посторонних лиц, не пустить в неё тех, кто внутри неё технологически совсем не нужен.
+++
Когда мы говорим о гипер-агрессивности английского, а после англоязычного американского империализма, о его настойчивой и навязчивой воинственности на всех континентах, мы должны понимать, что он возник вовсе не по причине какой-то «особости» английского национального характера. Все народы одинаковы, если их поставить в одинаковые условия, а разными народы становятся от разных условий жизни, выживания.
Англоязычный колониализм, наиболее жестокий из всех форм колониализма (англичане были более других склонны к геноциду туземцев) порождён чудовищной жестокостью «огораживаний», выбрасывающей в никуда миллионы английских «бывших людей», крестьян. Цепляясь за жизнь, миллионы полностью обездоленных бродяг скитались по Англии, воровали и побирались, разбойничали, их ловили, клеймили, запирали на каторге «работных домов», и т.п.
Эта драма английского населения длилась не один век подряд. Английская колонизация планеты – порождена была массовым истреблением англичан на Родине. Цепляясь за жизнь, жертва геноцида садилась на первый попавшийся корабль и плыла, куда глаза глядят. А на новых берегах жертва геноцида сама становилась «лордом геноцида», поступала с туземцами так, как её лорды поступали с ней дома.
Русская обыденность – родиться и жить в общине, опираясь на соседей – англичанам очень рано стала недоступной. Сосед – не помощник, а самый лютый и коварный враг! Нельзя просто жить там, где родился – жизнь англичанин обязан был отвоевать в жесточайшей борьбе за существование – и на протяжении многих веков. Чудовищные испытания, выпавшие на долю англичан, сделали тех из них, кто выжил и дал потомство, железными людьми. Очень твёрдыми, хваткими, цепкими и адски жестокими.
Любимое занятие русского общинника – ныть о своей несчастной судьбе, преувеличивать свои страдания – английскому характеру абсолютно чуждо. Любой детский психолог подтвердит вам, что слёзы, нытьё и жалобы у ребёнка неразрывно связаны с ожиданием помощи, адресованы добрым родителям и опекунам. Нет веры в то, что тебе кто-то придёт на помощь – нет и никакого нытья.
Вот характерный диалог детского психолога с ребёнком:
-Я плачу, только когда мама с папой придут домой. А при бабушке не плачу.
-Почему?
-Бесполезно…
Постоянное ожидание помощи делает национальный характер экзальтированным, склонным к истерикам, к повышенной плаксивости, вершиной чего выступают советские люди 80-х, уже неприлично-инфантильные.
Но если человек твёрдо понял, что плач привлекает не добрую маму, а свирепого хищника, который по нытью находит тебя, чтобы сожрать – человек всякое нытьё раз и навсегда прекращает. На его лице застывает, как маска, знаменитая и неизменная англо-американская улыбка. По своей сути, это защитная реакция, предупреждающая хищника: не подходи, я полон сил, я не слаб, я сумею отразить нападение!
История России складывалась так, что в ней невыгодно было казаться сильным. На сильного члена община, по принципу круговой поруки, тут же навешивала дополнительные обязательства. Хвалишься богатством? Так заплати подать за бедного соседа, и, кстати, помоги ему материально!
А потому в России даже цари иной раз обряжались в дерюгу, прикидывались очень бедными (например, перед опасными иностранными послами), а уж о простых людях и говорить нечего! Что, задумаемся, выгодно рассказывать крепостному барину? Покажешь, что слишком хорошо живёшь – барин, глядишь, отберёт что-то…
Разумеется, перед барином или в общине выгодна только одна модель поведения: высокохудожественное изображение крайнего своего оскудения. Всем своим видом показывать, что взять с тебя нечего — так, глядишь, ещё и помогут!
Потому русский человек на уровне инстинкта за много поколений сложился так, что он крайне склонен приуменьшать свои блага. А даже если и показывает их, то всегда с невыгодной стороны, подчёркивая какой-то их изъян, а не достоинства. В России это называется «критическим реализмом», здесь осуждаются хвастовство, бахвальство, но очень ценятся «страдания за народ», которым предавались с упоением, порой, и княжеские, и генеральские отпрыски.
Прямую противоположность этому является становление английского национального характера. Если русский очень стесняется (порой и с корыстной целью) показаться сильным, то англичанин панически боится показаться слабым. Традиционный страх русского – круговая порука при сборе податей (зажиточных общинников заставляли платить за обнищавших). Традиционный страх англичанина – показаться некредитоспособным.
В своё время, чуть разными словами, но всегда по сути одинаково, разные политики Европы высказывали изумление перед русскими в такой фразе: «Россия никогда не является такой слабой, какой она выглядит». Так говорили (не дословно, но близко к тексту) – Талейран, Меттерних, Бисмарк и У.Черчилль. Естественно, об этом же много, подробно говорили Гитлер и его сподвижники. Близка к этому знаменитая фраза Наполеона – «непоправимая ошибка русской кампании – в том, что я её начал».
Почему так много западных политиков приходили к столь похожим обиженным выводам? Потому что русское традиционное нытьё о «неустройстве» любой западный политик воспринимает как провоцирующее поведение жертвы. Западный человек не в состоянии уложить в голове – как могут люди сами направо и налево рассказывать о своей слабости! Ведь это же привлекает хищников!
Если человек или страна на Западе стали ныть о своей судьбе – значит, их положение хуже некуда, приходи и бери голыми руками. И потому русское нытьё кажется западникам особо-коварной хитростью подманивающего, провоцирующего маневра!
+++
Суть национального менталитета свелась к тому, что в России стыдно быть богатым, а в англоязычном пространстве – стыдно быть бедным. Соответственно и чувство вины: в английском мире бедный чувствует не вину общества перед собой, а собственную вину, что оказался в бедственном положении. В России же любимая национальная забава – рассказывать, как все вокруг виноваты, что «довели меня до такого положения». Причём зачастую и в третьем лице: не «меня» (мне-то лично ещё ничего живётся) – но некоего встреченного мною страдальца.
Русское поведение нетипично для зоологии. В рамках биосферы всякое существо делает всё, чтобы казаться больше и сильнее, чем оно есть на самом деле. Для него это вопрос выживания. Вспомните, как кошка добавляет себе роста, распушаясь при опасности, выгибая спину и скрючивая хвост! Притворяться маленьким котёнком для взрослой кошки при контакте с агрессивной средой – верх и предел безумия.
+++
С точки зрения теории цивилизации искажёнными представляются обе крайности поведенческой модели. И та, которая в России была выработана веками общинно-крепостнической среды, и та, которую выковали века рыночной агрессивной жестокости и ледяной беспощадности к конкуренту в английском мире. В дальнейших главах мы разберём, какой должна быть поведенческая модель, перспективная с точки зрения развития человеческой цивилизации, и какие угрозы составляют для перспективного моделирования разные национальные менталитеты, выработанные тысячелетиями того или иного, но всегда горького исторического опыта…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
————————————————————————
[1] Эффект получил своё название от Гронингенского газового месторождения, открытого в 1959 г. на севере Нидерландов. Быстрый рост экспорта газа вследствие освоения месторождения привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг.
[2] Понятно, слово авантюрист не имеет в данном случае того значения и того смысла, какое оно приобрело в наше время. Авантюрист — это просто купец, который берет на себя известный риск, купец-предприниматель.
- Политика
 Русранд Сулакшин С.С.
Русранд Сулакшин С.С.Антироссийский проект путинизма: реконструкция, идеологические и фактические характеристики
Занимаемся мы в университете оппозиции не пропагандой, не агитацией (что только в какой-то мере так, но главная цель не в этом). Занимаемся мы тем, что убеждаем друг друга и помогаем понять, что слово «оппозиция» — слово ответственное и оно отличается от слов: «балаган», «развлекуха», «подставуха», «суррогат», самопиар и «политическая порнография». Мы делаем совершенно иную заявку и последовательно помогаем строить в стране настоящую политическую оппозицию. Правящий режим и правящая группировка в нашей стране, как известно, получила…2 203 - Экономика
 Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин
Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинПутинизм и кризис России
Россия вновь наступает на те же грабли. Годы назад, выдвинув математическую модель мирового финансового кризиса, наша научная политическая группировка предупреждала руководство страны, что оно создает модель экономики и государства несуверенного типа, уязвимые для внешнего агрессивного воздействия. Обстоятельный доклад на эту тему в феврале 2009 году — по кризису одов — был подготовлен для Совета Безопасности Российской Федерации, в котором тогда, совместно с его секретарем Николаем…2 423 - Политика
 Сулакшин С.С.
Сулакшин С.С.Вступай в борьбу за власть
Уважаемый соотечественник! Благодарим вас за возможную решимость присоединиться к организационно-политическому строительству объединения настоящей общенародной оппозиции Путину и путинизму в рамках организационной инфраструктуры Партии Нового Типа. Наш отличительный принцип состоит в том, что мы не только разоблачаем губительный характер путинизма, но дали профессиональную диагностику способов и причин деградации страны и народа. В ее основе научные методы, модели и методология. Мы не только критикуем путинизм, но мы делаем настоящее профессиональное, конкретное содержательное предложение — что и как…1 696 - Политика
 Русранд
РусрандРоссии нужна другая Конституция!
Конституция — это основной закон страны. Существуют Конституции двух типов — первый, к которому относится ельцинско-путинская Конституция, устанавливает право, порядок и институты государственности. В Конституции иного типа кроме права, порядка и институтов задаются основы жизнеустройства во всех сферах жизни. Задаются социальная, экономическая, политическая, гуманитарная модель страны. Новая Конституция команды Сулакшина — именно такого, второго типа. Каким в Конституции будет задано жизнеустройство, — такой жизнь в стране и будет. Если…864 - Политика
 Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин
Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинПутинизм должен исчезнуть! Вызовы оппозиции гибельному курсу России
Автор и его товарищи много усилий приложили для мобилизации в стране реальной политической оппозиции путинизму, но задача создания профессиональной оппозиции, способной взять на себя ответственность за страну, дело трудное, объемное и длительное. Ее решение только еще предстоит. Поэтому мы открыли Университет оппозиции. Это цикл публичных занятий, объединяющей темой которого является политический проект реальной оппозиции, ее политическая Программа. Простой на первый взгляд вопрос — да чего там, за вечер…1 564 - Общество
 Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин
Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинСемь «П». Программа: платформа, проблемная повестка, проект, план, прогноз
Центральная и сквозная тема наших занятий в Университете оппозиции — разбор политической программы — что это такое? Многим кажется, что политическая оппозиция, её роль, миссия и активная повестка демонстрируется в нашей стране, например, Левым фронтом Сергея Удальцова, активно организующего уличные акции; КПРФ с их митингами; был период, когда Навальный со своим политическим проектом будоражил страну множеством митингов по стране и несогласованными, и рискованными митингами в центре Москвы. То есть…672 - Политика
 Русранд Самое интересное Степан Степанович Сулакшин
Русранд Самое интересное Степан Степанович СулакшинКорни и истоки «Программы Сулакшина»
Прежде чем подойти к разбору самой «Программы Сулакшина» сделаем несколько необходимых экскурсов. Начнем немного необычно, с отвлеченной истории, описанной Джеком Лондоном в его романе «Мартин Иден». Роман о судьбе талантливого человека в условиях жестокого американского капитализма начала двадцатого века, похожего на нынешнюю Россию с его императивами: выживай кто как может, а если не можешь выжить, погибай! Герой романа, ставший в итоге знаменитым, популярным, почитаемым и модным…803 - Общество
 Канал «Центр Сулакшина»
Канал «Центр Сулакшина»ТРОЛЛИ И БОТЫ: ВЫМЫСЕЛ ИЛИ ОРУЖИЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ?
В этом видео мы впервые с помощью статистического контент анализа Твиттера раскрываем масштабы грязных методов информационной борьбы режима с политической оппозицией в лице С.С.Сулакшина. Вы сможете оценить уровень беззакония, вредоносности и опасности для страны этой конкретной деятельности властного режима. Фактически создан метод достоверного выяснения кто является настоящей оппозицией и кого режим считает для себя опасным,…426
- Альтернативное мнение
 Павел Кухмиров
Павел КухмировАбхазия: дорога к «майдану» на деньги России
Фото отсюда Уже не первый раз вспоминается мне, как кто-то определил сумасшествие: что это когда кто-то раз за разом повторяет одну и ту же последовательность действий, предполагая, в конце концов, получить отличный результат. Линия поведения довольно опасная и для отдельно взятого человека, не говоря уже о целой стране. Впрочем, объясняться она может не только психическим расстройством,…5 - Альтернативное мнение
 Сергей Шелин
Сергей ШелинВина за новый всплеск эпидемии целиком лежит на властях
Все выходят из карантина, а Россия опять в него въезжает. Начальство перекладывает ответственность за свой провал на народ. Дезинформация и отсутствие побудительных мер усугубляют ситуацию с коронавирусом. Почти везде ковидные запреты ослабляются или отменяются. Тем временем у нас в одних местах объявляют локдауны, в других — полулокдауны, а в третьих от заразы пытаются отгородиться заставами на дорогах. Больше половины россиян не переболели и не были вакцинированы. Только чудо могло уберечь нашу страну от нового…27 - Альтернативное мнение
 Валерий Бурт
Валерий БуртВирусный июньский отпуск россиян. За чей счет банкет?
Фото: Everything.kz Больные вопросы и несвоевременные мысли о новых правилах при ковиде Коронавирус опять идет в наступление. Количество больных растет, открываются новые больницы. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, нынешняя неделя объявлена нерабочей. Но — с сохранением заработной платы. Приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах,…29 - Альтернативное мнение
 Юлия Макарова
Юлия МакароваПринудительная диета: россиянам придется тратить больше денег на еду
©Shutterstock/ FOTODOM Мировые цены на продовольствие продолжают расти и ставить рекорды. Россия, разумеется, находится в тренде: инфляция в стране растет темпами, которых не было вот уже несколько лет. Тем временем в правительстве уверяют, что справились с ростом цен. К концу года населению придется тратить на еду на 15–20% больше денег, допускают эксперты. Что происходит? По данным ООН,…11 - Альтернативное мнение
 Кочетов Алексей
Кочетов АлексейВодородная энергетика — только для избранных. Все остальные страны в пролёте!
После выхода в свет энергетических доктрин стран ЕС стало понятно, что водород – это перспективный энергоноситель, который к 2050 году должен вытеснить газ, нефть и их углеводородные производные из энергетического баланса Европы. Презентация национальной стратегии развития водородной энергетики ФРГ, 10 июня 2020 года. Помимо всего прочего, уже сегодня в странах ЕС действует «углеродный налог»,…34 - Альтернативное мнение
 Павел Кухмиров
Павел КухмировРОССИЯ И СЛАБАКИ
Нет зрелища более жалкого, чем агрессивный слабак. Особенно в тот момент, когда он своей агрессией оправдывает эту слабость. Но мало есть вещей и более опасных, чем он и ему подобные. Особенно когда они сбиваются в свору и начинают пытаться определять политический дискурс страны. Ключевым маркером таких, как они, является фраза «не очень-то и хотелось», а…40 - Альтернативное мнение
 Любовь Донецкая СНЖ
Любовь Донецкая СНЖ«А чего вы хотели?»
Фото из открытых источников Все-таки наш народ очень терпелив и снисходителен, быть может, излишне. Уже давно стали недоброй традицией загадочные высказывания на различные темы высокопоставленных чиновников и прокремлевских глашатаев прорывов и рывков. Причем зубодробительность «отливов в граните» компенсируется особенностями личности, их генерирующей. Когда в очередной раз какая-нибудь «особа, приближенная к императору» сообщает аудитории нечто, находящееся…14.06.2021 0:19 229 - Альтернативное мнение
 anlazz
anlazzПро привлекательность социализма 2
Фото отсюда На самом деле, кстати, вопрос с описанным в прошлом посте феноменом – проблеме с привлекательностью социализма – можно с легкостью объяснить одной-единственной фразой. А именно: указанием на то, что социализм есть первая фаза коммунизма. Или, точнее – момент перехода от капитализма к социализму, во время которого существует значительное число подсистем, связанных с «предыдущим» социо-экономическим…31 - Альтернативное мнение
 anlazz
anlazzПочему капитализм внешне выглядит лучше, чем социализм?
Фото отсюда Удивительно, но, по какой-то причине очень малоизвестным является один интересный феномен. А именно: тот факт, что при «внешнем сравнении» капиталистическое общество всегда выглядит более привлекательным, нежели социалистическое. Точнее сказать, это относится ко всему классовому обществу, поскольку очень часто привлекательным выглядит и феодализм. Ну да: балы, красавицы, лакеи, юнкера, гимназистки румяные, золотые купола и…31 - Альтернативное мнение
 Редакция "Народного Журналиста"
Редакция "Народного Журналиста"В КРЕМЛЕ НАШЛИ СТЕРИЛЬНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОГО ПОДКУПА
Тактика привлечения экс-лидеров западного мира в советы директоров наших нефтегазовых контор стала настолько очевидной, что это уже вполне можно назвать стратегией. Недавно в состав совета директоров «Роснефти», как следует из материалов компании вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой Путин танцевал в 2018 году на её свадьбе. Как известно, кто девушку танцует,…22 - Альтернативное мнение
 Алексей Кузнецов
Алексей КузнецовГлавное доказательство виновности
Фото отсюда То, что американцы 7 лет отказываются предоставить спутниковые снимки крушения MH17 — самое главное доказательство виновности украинской стороны. Через 72 часа после крушения MH17 госсекретарь США Джон Керри выступил на 5 воскресных шоу и обвинил в трагедии Донецкую Народную Республику. Широко известен отрывок из его интервью, которое он дал известному СМИ CNN. В…42 - Альтернативное мнение
 soiz [1231402]
soiz [1231402]В СГУЩАЮЩИХСЯ СУМЕРКАХ
Как известно, в Сочи произошла стрельба: 61-летний Вартан Кочиян встретил судебных приставов огнем — двое убито, третьему удалось убежать. Можно, конечно, закопаться в обстоятельствах конкретного дела, выяснять – кто там был прав, кто виноват. Но меня интересует определенная социальная динамика. Когда случилась стрельба в казанской школе, я написал, что она не последняя. Подобные отдельные эпизоды…47 - Альтернативное мнение
 Павел Кухмиров
Павел КухмировЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА: КЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ
Человеческое общество, если вдуматься, мало чем отличается от любого другого живого организма. В том, что оно таковым является, сомнений нет — как минимум, оно живёт по тем же законам. Сейчас принято говорить, что организм этот состоит из атомов — то есть отдельных людей. Что в эпоху атомизации оного общества вполне закономерно. Однако в реальности это…32 - Альтернативное мнение
 soiz [1231402]
soiz [1231402]РУИНЫ
Руины страны и руины народного сознания Некоторые комментаторы к моей статье о демографической катастрофе вполне справедливо указали на то, что причина вымирания населения находится где-то в области смыслов, в разрушении социального оптимизма. В нашей стране были намного более тяжелые в социальном отношении ситуации, но народ не вымирал. И сейчас есть страны, где социальная ситуация хуже…53 - Альтернативное мнение
 Любовь Донецкая СНЖ
Любовь Донецкая СНЖСверхдержава Кривых Зеркал. Отчего так в России березы шумят?
Фото: © youtube.com Отшумевший и нашумевший ПМЭФ принес множество открытий в самых разнообразных сферах жизни российского общества. Одним из них стало заявление зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, который привлек внимание к такой наболевшей проблеме как телефонное мошенничество. «Мы близки к тому, что можно считать телефонное мошенничество национальным бедствием», — заявил он. По данным МВД, в 2020 году…157 - Альтернативное мнение
 Роман Скоморохов
Роман СкомороховКто остановит бегство ученых из России?
Фото: Perficient, Inc. Парадокс дня сегодняшнего. Чем больше нам говорят о том, что мы на верном пути, тем больше становится вопросов на тему того, куда нас заведет этот верный путь. Сейчас мы рассмотрим ситуацию, которая складывается давно и не является секретом ни для кого. Возможно, стоило бы и засекретить, чтобы все было ровно и гладко,…91 - Альтернативное мнение
 Павел Кухмиров
Павел КухмировДети, которые убивают: как победить стрельбу в школах
Фото отсюда Жизнь в глобализированном мире ведёт к тому, что проблемы, характерные для этого мира, становятся актуальными и в нашей стране тоже. В том числе и те, что относятся к числу самых неприятных. Например, т.н. школьные расстрелы. И недавний кровавый инцидент в Казани поставил этот вопрос ребром. Вдруг начало выясняться, что к подобным вызовам наши школы…34 - Альтернативное мнение
 The West
The WestПМЭФ. Новости из зазеркалья
Путин заявил, что действия США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте… Владимир Владимирович, великий эксперт по экономике, как всегда на своей волне. Вспомним его знаменитое «Мировая экономика рухнет если нефть станет дешевле 80 долларов за баррель». Когда его журналисты потом об этом спрашивали: «Владимир Владимирович, но вы же говорили…», он заявил, что не помнит такого. Ну бывает. Возраст. Он много чего не помнит, как много раз…47 - Альтернативное мнение
 Алексей Белов
Алексей БеловСиловой Бандерштадт
За годы донбасской гражданской войны мне приходилось слышать две расхожие сентенции, характеризующиеся крайней резкостью заложенных в них суждений. Причём, несмотря на кажущееся различие обоих тезисов, они весьма тесно переплетены между собой. Первый из них звучит так: радикалы на Украине не представляют собой значительной политической силы. Второй, имеющий форму скорее упрёка, чем утверждения, гласит: если бы…83 - Альтернативное мнение
 Михаил Ошеров
Михаил ОшеровКонец гешефтмахера, или Израиль без Нетаньяху
2 июня 2021 года лидер израильской политической партии «Еш Атид» ЯирЛапид официально объявил президенту государства Израиль Реувену Ривлину, что он сформировал правительственную коалицию. Все руководители израильских политических партий, намеревающиеся участвовать в правительственной коалиции, подписали письменный документ о намерении войти в коалицию. Это партии Еш Атид, Ямина, Кахоль-Лаван, Тиква Хадаша, НДИ, Авода, МЕРЕЦ и РААМ. Первые…7.06.2021 9:06 56 - Альтернативное мнение
 Мария Кузьмина
Мария КузьминаФорум, который мы заслужили. Пафос и хайп ПМЭФ-21
Maksim Konstantinov / Global Look Press Во что превратился «русский ответ Давосу» Петербургский международный экономический форум был задуман как альтернатива существующим мировым экономическим центрам. Год за годом ПМЭФ рос, ширился, взрослел, демонстрируя миру успехи новой России. И, как и завещал Петр, все флаги (то бишь, инвестиции) были в гости к нам. Однако пристально следящие за…61 - Альтернативное мнение
 Алексей Капустин
Алексей КапустинДостройка «Северного потока-2». Почему рано радоваться?
Фото: Osnmedia.ru России предстоит разрешить массу проблем перед вводом газопровода в коммерческую эксплуатацию Завершение работ по прокладке труб газопровода «Северный поток-2» превратился в неприлично затянутый сериал. В общей сложности осталось проложить около 100 километров магистрали (порядка 5% от общей протяжённости), но этот путь может стать самым тяжёлым в силу негативных технических и политических факторов. Только…54 - Альтернативное мнение
 anlazz
anlazzПро смартфоны, информацию и общество
У Розова прочитал, что: «…молодые люди начинают придерживаться образа жизни без смартфонов, что, по их словам, улучшает их самочувствие…» В том смысле, что некоторые пользователи сознательно убирают из своей жизни пресловутые «гаджеты» для того, чтобы снизить давление «информационной среды». Интересно тут то, что это стремление затронуло молодежь – поскольку ранее подобные решения практиковали, в основном, представители…37 - Альтернативное мнение
 snayper_poet
snayper_poetИСКУПЛЕНИЕ, НО НЕ ПОКАЯНИЕ
Фото отсюда Сегодня на глаза нечаянно попалось видео, где мама Протасевича громко подвывая умоляла спасти жизнь своего единоутробного сынка, которого якобы пытают и собираются расстрелять. Смотреть это за один раз невозможно, осилил только с третьей попытки. Но больше всего меня поражает то, как некоторые люди в сети оправдывают, дескать она же мать. Хорошая мать —…49 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАнгло-капитализм и теория цивилизации-5
Локализм, как наиболее базовое, фундаментальное явление, в экономике имеет формулу: «рост доли в системе важнее её охвата». Наиболее очевидные, базовые истины труднее всего понять, а потому прошу читателей напрячься и рассмотреть примеры, разъясняющие и внутреннюю логику, и конечную деструктивность локализма. Вот условный завод (или ферма, или шахта, что угодно). На нём работают, допустим, 40 человек….32 - Альтернативное мнение
 THE BELL
THE BELLВступил в силу скандальный закон о просвещении. Куда он приведет рынок EdTech?
С 1 июня вступили в силу нашумевшие поправки о просветительской деятельности, против которых выступал весь рынок образования. Чиновники обещали доработать документ, но пока этого не произошло. В текущем варианте под новое регулирование может попасть все — от онлайн-курсов до роликов на YouTube. Основатель онлайн-университета ProductStar Михаил Карпов в колонке для The Bell рассуждает о том, каким могло бы быть регулирование просветительской деятельности и чей опыт правительству стоило бы перенять. Почему закон вызвал так много споров На сайте regulation.gov.ru, где…25 - Альтернативное мнение
 Станислав Смагин
Станислав СмагинКТО ТАКИЕ РУССКИЕ
В последнее время у нас принято глумиться, ужасаться или и то, и другое одновременно — вполне по делу, замечу — общественно-идеологическим процессам, идущим в США. Собственно, ваш покорный слуга их тоже не раз уже анализировал. Особый интерес вызывает стык политической и, скажем так, национально-расовой проблематики. Вот, например, авторка Кристина Бельтран, прошлой осенью выпустившая книгу «Жестокость как…55 - Альтернативное мнение
 Редакция "Народного Журналиста"
Редакция "Народного Журналиста"В РФ появится свой BLM?
Азербайджанская диаспора в РФ вновь показала свою силу. Полицейского, который при задержании подстрелил выходца из азербайджанца, сослуживцы вынуждены были прятать от расправы. В Новосибирске они даже третируют депутата, который посмел призвать азербайджанцев к порядку. В регионе ходят слухи о намерении азербайджанцев устроить погромы. Настоящая информационно-виртуальная война разгорелась в интернет — пространстве, где царят взаимные обвинения,…63 - Альтернативное мнение
 Александр Лежава
Александр ЛежаваЗаключенные вместо мигрантов
Фото отсюда 20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) А. Калашников предложил использовать заключенных на работах, где обычно трудятся мигранты. Он говорил, что «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». Министр юстиции поддержал эту идею. По горячим следам ВЦИОМ провел опрос об отношении наших граждан к этой инициативе. Идею привлекать к…25 - Альтернативное мнение
 anlazz
anlazzЕще раз про «Белую Гвардию» и «белый патриотизм»
Фото отсюда Кстати, Булгаков в «Белой гвардии» «приложил» противников Советской власти конкретно. Например, в описании того, кто бежал из Советской России в «благословенную» Украинскую державу. Ту самую, которая – как уже говорилось – была немецким протекторатом и существовала ради обеспечения Второго Рейха хлебом и иными ресурсами. Поскольку показан был «контингент» вполне специфический. (И не верить…39
- Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАнгло-капитализм и теория цивилизации-5
Локализм, как наиболее базовое, фундаментальное явление, в экономике имеет формулу: «рост доли в системе важнее её охвата». Наиболее очевидные, базовые истины труднее всего понять, а потому прошу читателей напрячься и рассмотреть примеры, разъясняющие и внутреннюю логику, и конечную деструктивность локализма. Вот условный завод (или ферма, или шахта, что угодно). На нём работают, допустим, 40 человек….32 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАнгло-капитализм и теория цивилизации-4
«Идеология свободы» — кошмар рационалиста. Какое бы положение не выставил Разум – «свободный человек» всегда может ответить на него «не хочу». При этом «не хочу» не требует никаких доказательств, обоснований, как, например, «не могу». Не могу я чего-либо по определённым причинам (как их устранят – смогу), а не хочу я сам по себе, просто так….42 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАнгло-капитализм и теория цивилизации-3
Если мы откроем «Англо-русский экономический словарь», то прочитаем в нём: «англо-саксонская модель капитализма – это экономическая система, в которой экономическая эффективность имеет первостепенное значение и управление экономикой в максимальной степени отдается рыночной системе; соответствует экономическому строю США; концепцию предложил М. Альбер». Но перед нами определение, которое англо-капитализм дал сам себе. Таким он себя видит изнутри….41 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАнгло-капитализм и теория цивилизации-2
С древнейших времён и примерно до XIII века Англия существует в качестве наиболее удалённой, и, казалось бы, бесперспективной периферии Европы. Это остров со скверным для Европы климатом, низкой био-продуктивностью угодий, глубокой провинциальностью во всём и сугубой вторичностью форм. Как и всякая периферия – остров исторически оказывается «прибежищем неудачников»: тех, кто не смог отвоевать себе места…36 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАнгло-капитализм и теория цивилизации
Если мы говорим о цивилизации не так, как это делают англоязычные политики и наши западники, если мы имеем в виду объективное явление с точным определением, а не похвальбу самим себе – то нам придётся задуматься: что же формируется в итоге цивилизации? Правильно поставленный вопрос диктует ответ: формируется та или иная форма организации Коллективного Разума, противодействующая…67 - Общество
 Александр Леонидов
Александр Леонидов«Мечте навстречу»: проект или галлюцинация?
Само понятие «прогресс» совершенно невозможно без понимания несовершенства окружающей реальности. Если считать её совершенной – то зачем прогресс, куда, и кому он нужен? А поскольку понятия «прогресс» и «цивилизация» неразделимы, то понимание необходимости исправления мира лежит в самой основе ОТЦ[1]. Мы отличаемся от животных тем, что мы не замкнуты в цикле вечной однообразной повторяемости. И…81 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовФормула прогресса (из ОТЦ)
Человека отличает от животного (когда отличает и настолько, насколько отличает) – развитие абстрактного мышления, способного к обобщению идей. Полученный опыт не только сохраняется в памяти – но и обобщается по «аналоговому» принципу. Человек методом обобщения познаёт не только конкретную ситуацию, но и её подобия, аналоги. Например, получив ожог от чайника, он связывает ожог с кипением…39 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовВласть Разума и её пределы
У рациональности (разумности, здравого смысла) много определяющих признаков. Но самый простой и зримый из них – улучшение положения со временем. Если система рациональна, то она с той или иной скоростью, но улучшает жизнь год от года и день ото дня. И это улучшение положения – важное доказательство разумности системы. Значит, она не только говорит о…87 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовСтановление мысли — 2
Становление мысли, Разум невозможно рассматривать в отрыве от целеполагания. Это стало нам ясно, когда мы доказали, что интенсивность мышления – ничего не говорит о его качестве, достоинствах. Если человек исступлённо, до изнеможения обдумывает предмет пустой, никчёмный (пребывает в схоластическом круге[1] или в циклической мантре[2]) — то такого «мыслителя» мы склонны скорее высмеивать, чем почитать. Ничего…61 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовЗдравый смысл и маниакальные «идеи»
Если вы спросите психиатров, чем, собственно, маниакальная, патологическая «сверх-идея» отличается от рациональных идей, здравых мыслей «человека разумного», то вам ответят по учебнику. В котором сто лет уж записано: маниакальная идея не имеет ни продолжения себя, ни развития, ни соотношения с другими идеями, обстоятельствами, контекстом ситуации. Если человек в лодке станет ловить рыбу – то он…81 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовПозиция Запада и концепция абсолютного бесправия
Заявления десятков и даже сотен официальных лиц украинской хунты складываются в одно, твёрдо заученное по методичке: на Украине нет никакой гражданской войны. Есть только вторжение России, которое мешает проведению выборов на ряде территорий «по украинскому закону». В итогах выборов «по украинскому закону» Киев заранее твердокаменно уверен, хотя и знает результаты референдумов в Крыму и в…61 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр Леонидов«Кислотная демократия»
Американские города снова в огне: снова интернет напрямую, минуя цензуру СМИ, доносит до нас весь набор примет беспорядка: стычки с полицией, погромы и комендантский час. Пока банда Байдена, подделавшая выборы, что теперь уже доказано, ревниво следит за российской армией на территории России, в её собственном логове вновь вспыхнул огонь «протестов» и погромов. Манифестации после очередного…111 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовСТАНОВЛЕНИЕ МЫСЛИ (очерки из книги)
Мысль – самый таинственный предмет изучения, хотя бы потому, что ей приходится изучать саму себя, и, если мы говорим о процессе исторического становления мысли, невозможно отделить объект от субъекта. Нет ничего субъективнее мысли – но в то же время очевиден и её объективный характер: мышление порождает реальность, в отсутствии мышления полностью отсутствовавшую. Чтобы как-то понять…125 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ И КРАХ «ВТОРИЧНОГО КОНТУРА»
При выходе человека из животного состояния психики и быта первоначальную и главную, фундаментальную роль в становлении цивилизованного мышления и образа жизни играют т.н. «сакралиты» (дословно – «священные камни»). Они слагают базовую аксиоматику, всё дальнейшее доказывая собой, но сами не подлежащие доказательству. Так возникает «догматическое ядро личности», вокруг которого только и может начаться сложная кристаллизация структур…50 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовПЕРВИЧНАЯ МАТРИЦА ПОВЕДЕНИЯ
Локализм – это приоритет своего, локального, над общим и глобальным. На практике это всегда приоритет малого над большим, частного над общественным, короткого над долгим, сиюминутного над долговременным, личного над коллективным. Человек с психикой локалиста – всегда агент врага, понимает он это, или не понимает. Любого врага – даже названия которого локалист может не знать. В…135 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовЧТО ТАКОЕ «САКРАЛИТЫ»? (ИЗ ОТЦ[1])
«Сакралиты» — термин из той самой ОТЦ, которую мы с Вами, читатель, создаём прямо в текущем времени, «он-лайн». Сами видите – формулируется новое учение трудно: только кажется, что определил базовые основы восхождения человечества – тут же выясняется множество «недоучтённого»… Сегодня, опираясь на многолетние размышления и многолетнюю критику, которой Вы помогаете мне, могу сформулировать дело так:…45 - Альтернативное мнение
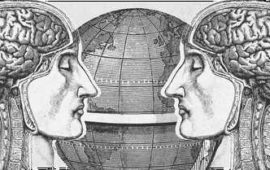 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовИсточники базовых воззрений — 2
(начало здесь) ОТЦ (Общая Теория Цивилизации) создаваема нами, чтобы пытливо отыскивать самые первичные истоки представления о добре и справедливости у человека. Мы, люди, так устроены, что самое очевидное – нам труднее всего объяснить. И самые трудные вопросы – детские, наивные с виду, вопросы. Почему вы считаете добром то, что вы считаете добром? Откуда у вас…58 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовИсточники базовых воззрений -1
Есть две безусловные истины, которые должен понять человек – чтобы вообще хоть что-нибудь понимать в жизни. Первая – это неоспоримая ценность знания, ценность физики, химии, географии и т.п. Они нужны. Им нет альтернативы. Противопоставить химии, как изучению веществ – «антихимию» — глупо, да и вообще – что же это будет такое?! Как вы себе представляете…72 - Альтернативное мнениеАлександр Леонидов
АНАТОМИЯ ТУПОСТИ: «50 ОТТЕНКОВ ЛИБЕРАЛЬНОГО»
Думаю, никто из моих читателей (а это люди вдумчивые) не сомневается, что попасть в лапы саблезубой кошки – адская боль. И, конечно, в сам момент расчленения клыками и когтями хищника любой доисторический человек всё бы отдал, чтобы избежать такого бедствия. Истребление хищников сперва в городах, затем в других населённых местах – велось чем? Правильно, техническими…80 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовПредпосылки и созревание прогресса
Если мы услышим в слове «ре*волюция» приставку «ре*» (ре*конструкция, ре*миссия и т.п.), то поймём, что речь идёт о возврате к чему-то утраченному. Дословно «ре-волюция» переводится на русский язык как «восстановление воли»[1]. Разумеется, мыслитель может опираться на филологию, но обязан мыслить шире, чем филолог-корнеслов. Восстановление КАКОЙ воли? Гитлер тоже о себе фильм снимал «Триумф воли», посвящённый…132 - Альтернативное мнениеАлександр Леонидов
Судьба познания в конкурентной резне
Безумие, как явление психическое, существует в форме мыслительной, как определённый комплекс мыслей. Мыслей патологических, извращённых, вывихнутых – но мыслей. Трудно, думаю, будет кому-то оспорить, что бред и галлюцинация – продукты мышления. Пусть патогенного, искажённого и вывернутого, но мышления! Будучи мыслями, бред может быть изложен в форме знания, этим занимались многие, включая классиков (например, Ф.Кафку). Общее…100 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр Леонидов«НЕУМНОЖАЕМЫЙ ПИРОГ»: РЫНОЧНЫЙ ТУПИК
Процесс люмпенизации пролетариата, появление люмпен-пролетариев хорошо известен и подробно описан. Меньше говорят о том, что существует и процесс люмпенизации элиты, и он, если задуматься, опаснее вырождения трудового человека в асоциального паразита. Пролетарию люмпенизироваться трудно: ему угрожают в процессе абсолютное обнищание, голодная смерть или замерзание в неотапливаемом жилище. Как понимает читатель, люмпенизирующейся элите это не грозит….71 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовТрепачи и проблема прогресса
В своё время наши либералы любили (а потом перестали, потому что поняли – дурно пахнет) цитировать дневник Геббельса, в котором Геббельс изумлённо, и видимо, искренне недоумевает после начала войны: «эти русские действительно считают себя передовыми! Им кажется, что они на самом деле имеют превосходство». Изумление Геббельса этим «неоправданным самомнением дикарей» очень созвучно современным либералам, для…106 - ОбществоАлександр Леонидов
ОТЦ: «КЛЕЕВАЯ ОСНОВА» И ДВА АНТАГОНИЗМА
Люди объединяются в общество благодаря определённому связующему материалу. Если этого связующего материала мало – происходит разрыв общества. А если его совсем нет – то людей вообще ничего не объединяет, и они только враждуют между собой, в режиме войны «всех против всех», каждый против каждого. Потому, в рамках ОТЦ (Общей Теории Цивилизации) мы и утверждаем со…65 - Общество
 Александр Леонидов
Александр Леонидов«Люди и бутерброды»: письмо сторонникам Навального
Вначале – притча. Неким дуракам очень хотелось праздника. Они накупили фейерверков, и стали пускать ракеты в небо, очень радуясь эффекту. Потом им надоело пускать ракеты вертикально, и они захотели пустить ракету под углом, «для прикола». Бахнули – ракета попала в дедушку, вышедшего на балкон, и убила его… Мораль сей притчи такова, что неумным людям –…116 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовБУНТ ДУРАКА: ЖЕРТВЫ ДЕГРАДАЦИИ
Человек и животное говорят на разных языках. Предупреждая возможные вопросы – да, у животных есть свой язык! Это язык жестов и разной тональности междометий. Довольный кот держит хвост трубой, а злой – приподнятым крючком. Медведь от удовольствия урчит, в раздражении рычит, а в сильном гневе ревёт. И этот его язык понятен не только другим медведям,…82 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовКАТАСТРОФА В США И США КАК КАТАСТРОФА
«Храмовая теория» возникновения культуры, государства и общества, юридического и морального кодексов и критериев психиатрической вменяемости – исходит из того, что центробежным силам биологической локальности организма необходимо противопоставить центростремительные силы надчеловеческих ценностей, приоритетов и задач. Зоология не может породить общности, крупнее стаи. Она не может даже в стае (не говоря уж о чём-то большем) преодолеть грызню…90 - Общество
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ»
Всякий человек (за исключением редких патологических случаев) хотел бы обладать способностью к объективной оценке явлений. Но несложно догадаться, что одного желания тут мало, необходимо умение, особые навыки, которые способна выработать только очень хорошая школа. Хотя большинство людей хотели бы быть объективными, большинству из них эта «премудрость» недоступна. Ведь оценить объективно – это значит оценить «без…73 - Политика
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовДОМ ВНУТРИ «DOOM»: СУДЬБА «УКРАИН»
В компьютерной игре есть персонажи, которые убивают друг другу на потеху игрока. Есть сам игрок – с той или иной степенью азарта, который задаёт персонажам поведение. И, наконец, есть механизм, соединяющий клавиатуру (джойстик) игрока с персонажами на экране. Если бы персонажи компьютерной игры обладали разумом и личностью, то они бы отказались «мочить» и «крошить» друг…73 - Альтернативное мнение
 Александр Леонидов
Александр ЛеонидовАся против Бога или разорванность атеизма
Есть две важнейшие и актуальнейшие темы для докторских диссертаций. Одна – «роль религии в формировании поведенческих потребностей человека». Вторая – «роль религии в формировании познавательных потребностей человека». Поскольку наши учёные предпочитают заниматься всякой чушью, а не по-настоящему важными темами, две эти темы остаются пока не развёрнутыми в нужном объёме. Но нужно же понимать, что они…142
Лента новостей
- Новости экономики. 16.06.2021
- Россия с 1 июля повышает пошлину на экспорт нефти
- Законопроект о едином измерителе аудитории в Интернете прошёл второе чтение
- СМИ обяжут упоминать о запрете террористических организаций
- Разные новости 16.06.2021
- Доля индийского варианта коронавируса в России достигла 63%
- Турецкий военный корабль подошёл к территориальным водам России и направился в сторону Крыма
- Байден заявил о готовности НАТО вмешаться в конфликт в Донбассе
- Новости экономики. 15.06.2021
- Разные новости 15.06.2021


