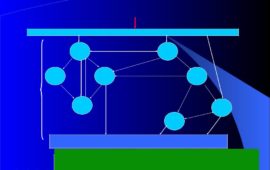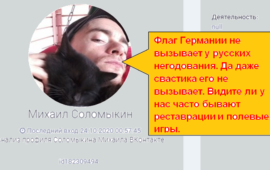В современном мире, в прозападной, особенно либеральной (впрочем, и консервативной тоже) тусовке быть дегенератом вдруг стало модно, престижно, уважаемо и поощряемо. Связное и системное мышление тотально подменяют бессмысленными и краткими «перформансами». Это деволюция от Ньютона к леди Гаге и от Ломоносова к Ольге Бузовой. Целеполагание и маршрутирование сменилось в глобальном масштабе ожесточённой сиюминутностью животных наслаждений. Низшее в человеке всплыло наверх, а криминальное подполье подменило собой «верхний мир» политических отношений.
Раньше на корабле были капитан в своей каюте, матросы в своём кубрике и крысы в своём трюме. Никто не отрицал крыс (криминального подполья, о котором снимались любимые в народе детективы) – но никто и не сводил к крысиным взаимоотношениям решения капитана и жизнь матросов, курс и остойчивость большого корабля.
Люди моего поколения (я 1974 г.р.) ещё помнят, что так было. И с недоумением оглядываются вокруг себя: из всех моряков на корабле остались только крысы! Где наука ради познания – а не ради грошовых привилегий учёной степени? Где культура ради человечества – а не ради патологического самовыражения дегенератов? Где партии ради программы – а не ради самопиара жуликов-спонсоров? Где производство ради жизни и людей – а не ради прибыли?
Ничего не осталось на покинутом людьми корабле, оказавшемся во власти крыс. Такова цена жизни без СССР. Таков итог торжества американизма, «американской мечты» — суть и слагаемые которых мы подробно разберём в этой статье.
+++
Жертвовать во имя Идеи – человечеству это привычно.
Но жертвовать всё больше и всё большим во имя Безыдейности?
Это нечто новое.
Это – американизм как идеология.
Жертвовать собой и своими близкими – ради беспутья, бесцельности, ради того, чтобы закрепить и увековечить отсутствие ориентиров?
Ведь мы оказались в обществе, которое не только замкнулось в самопожирании, но и официально объявило такое поедание самого себя «с хвоста» идеалом и целью истории!
Раньше мы не думали, что такое возможно.
Мы знали, что где-то есть криминальное подполье, и у него свои специфические отношения, свои «законы», свои представления о жизни.
Но, зная это (обычно из фильмов про милицию) – мы не верили, просто не могли вообразить, что этот специфический дух криминала превратится в единственный наполнитель целой исторической эпохи!
+++
Напрасно мы не верили в то, что такое возможно.
Дело в том, что история не всегда была линейной. Это нам, людям традиционного образования, она привычна линейной, разомкнутой, до такой степени, что кажется: другой и не бывает.
Мы привыкли к истории, в которой всё свершается один раз, к тому же восходящей истории. Всё предыдущее в ней не просто случились единожды в своё неповторимое время, но и стало причиной последующих ступеней восхождения.
Это логика лестницы (в христианской традиции «лествицы»), в которой уровень отцов является предыдущей ступенью для детей, а уровень детей – предыдущей ступенью для их потомков.
Мы, конечно, идём от первого этажа, но уже дошли до «…дцатого», и собираемся подниматься дальше.
Мы шагаем не по воздуху, не в пустоте: вся конструкция этой лестницы поддерживает наше восхождение. Мы не падаем, потому что предыдущие пролёты удерживают нас наверху, мы опираемся сразу на все предыдущие ступени.
В этом смысл таких неотъемлемых атрибутов цивилизации как преемственность и поступательность развития. В логике линейно-восходящей истории всё делается «на вырост», каждое из действий предполагает раскрытие в дальнейшем, на более высоком уровне.
Мы не просто так созидаем, строим, создаём: мы это делаем для потомков. Мы не просто так познаём мир: мы познаём его для потомков. Мы облегчаем потомкам рывок, который нам самим пока недоступен. Но мы собираем материалы и готовим для потомков возможности для этого рывка вверх.
И мы привыкли к такой логике бытия. Мы забыли, что на протяжении тысячелетий история была не линейной, а цикличной. Она никуда не шла – она просто возилась по кругу. Она считала не годы, а смену сезонов, не слишком отличая лето от лета, зиму от зимы.
+++
Что объединяет либерала, животное и представителя уголовного мира? Неукротимое и страстное «свободолюбие», отрицание государства и его посягательств на личность. Животное законов вообще не знает, оно ниже их, вор законы отрицает, а либерал пытается ввести такой закон, который бы отменил законы. Либерал от вора отличается (если отличается) только тем, что либерал – теоретик, а вор – практик.
Либерал обобщает воровские нравы в некоем подобии юридического языка, в некоем подобии философии жизни – а вор ничего такого не думает, просто так живёт, без широких обобщений, лично, так сказать.
Сходство между животным, либералом и вором – не случайно. Все они живут вне цивилизации. Животные – до истории, криминал – «сбоку», вне истории, а либерал – после истории, норовя её остановить и закрыть. Воровские нравы черпают себя в животных, низших инстинктах биосферы, а в либерализме они находят некую обобщающую рефлексию своих практик.
И это очень опасно – потому что одно дело просто грех, а совсем другое – канонизация, освящение греха как высшей добродетели. Когда грех свершается во мгле и молча – это по слабости человеческой. Но когда он крикливо гордится собой, демонстративно выпячивает себя, и навязывает себя «максимой всеобщего поведения» — это уже куда хуже, это уже гордыня и «бесовская прелесть». И тут речь уже не о том, что «слаб человек», а совсем наоборот: что он силён дьявольски, сатанинской силой!
+++
Американизм в новейшее время (до 60-х годов ХХ века он был другим) создал свой, весьма причудливый идеал человека: лежащего на диване перед телевизором и действием наркоты. Если так, то жизнь удалась! Трудятся неудачники и воюют, в армии служат, тоже неудачники – просто им в жизни не повезло, и обломовский диван[1] с дозой дури им нечем оплатить!
Право и возможность ничего не делать (стать рантье) – главная удача и главная цель человеческой жизни. Все и всё в этом причудливом мире делают только для того, чтобы выйти на заветный, победный уровень игры: не делать ничего. Остаться с полнотой прав, предъявляемых обществу, при полной аннигиляции любых своих обязанностей перед ним[2]. «Все мне должны по гроб жизни, а я никому ничего – по праву рождения».
Это переход от энергетике к «энтропике», от разворачивания цивилизации к её сворачиванию. Человек перестаёт раскрывать свой потенциал созидателя и творца, и наоборот, сворачивает его при любой возможности (внезапно обнаружив свой идеал бытия в помещике Обломове).
Всякое напряжение – будь оно в труде или в бою, в учёбе или за сложной книгой – шельмуется, проклинается, выводится, как пятно с репутации, «пятновыводителями».
+++
Прежде чем в идеократических империях появились летописцы и хронисты, умеющие датировать события, память народов, отражённая в эпосах и сказаниях – имела очень смутное представление о времени. Она путала прошлое с настоящим и с будущим, да это и логично, если движешься по замкнутому кругу. Ведь в данный момент ты в той же самой точке, в какой был круг назад, и через круг снова в ней окажешься!
Формула идейности понятна: яростное утверждение Х и яростное отрицание Y, неразрывно связанные между собой. Идейные люди считают своей священной миссией нечто насадить, а нечто иное, наоборот, удалить. Они беспощадно пропалывают естество самосада от того, что им кажется сорняками.
Идейные люди берут нечто, имеющееся минимально, пунктирно – и развивают это в гиперию[3].
+++
Но если формула идейности понятна, то какова же формула безыдейности?
Это равнодушие как ко всему приходящему, так и ко всему уходящему. По сути, это отражение циклизма истории: двигаясь по замкнутому кругу мы ничего нового не можем приобрести и ничего не можем потерять.
Равнодушие по своей природе – явление пассивное. Для того, чтобы стать активной движущей силой, идеологией – равнодушие должно было сильно мутировать. Что оно и сделало в рамках американизма.
Дело в том, что изначально американизм (и вообще западничество в ХХ веке) были концептуально пусты. Никакого собственного образа будущего они не имели (как и сейчас не имеют), а строили они себя на охаивании чужого опыта.
Один строит, экспериментирует, ошибается – другой рядом стоит и брюзжит: «я же говорил, ничего не получится!».
Чужое хаять легко, приятно, одна беда – бесплодно. Ведь из отрицания чужой версии будущего собственной не слепишь. Из фразы «не хочу быть верблюдом» никак не понять, кем же ты хочешь быть.
Кратко говоря, американизм в ХХ веке – это отказ от дорогостоящей покупки, потому что тратиться на неё не хочется.
Нам предлагают самолёт, и полетать бы даже хотелось – но ведь пока его построят, сколько времени пройдёт, сколько денег угрохаем!
+++
И дальше начиналось знакомое нам, вполне по-человечески понятное нытьё о «цене Победы». Не только конкретной Победы-1945, которую предлагают заменить «дешёвым поражением», подменяя «ужасы выживания» «прелестями быстрой смерти». Но и в более широком смысле: жертвы, приносимые в борьбе за Идею слишком велики, тяжки, и т.п.
Словом, есть люди, которые делают, и есть люди, которые ноют, что делать – очень тяжело, трудно, долго. Вторые опираются на простую и понятную человеческую усталость.
В детской формуле «мы писали, мы писали, наши пальчики устали, мы немного отдохнём, и опять писать начнём» нет ничего плохого. Ключевые слова – «немного» и «опять». Наверное, большой ошибкой СССР было то, что рывок сменяли рывком, не давая периодов планового отдыха, вовремя не сбрасывали темпов «ускорения»…
Цена Победы, действительно, бывает разной: и нет ничего плохого в том, чтобы задуматься – как её снизить, как пройти наверх пологим склоном, а не лезть по вертикальной стене.
Но в определённый момент РАСПАДА ЦИВИЛИЗАЦИИ, зримым образом которой стал крах СССР со всеми его линиями восхождения (намеченными культурой тысячелетия назад) пассивную безыдейность, просто тяготящуюся жертвами за Идею, подменила активная безыдейность.
Одно дело – если вы не хотите вносить свою лепту за Идею. И совсем другое, когда вы вдруг начинаете призывать к колоссальным жертвам во имя безыдейности и подавления, уничтожения всех и всяческих идей.
Как писал об этом M. E. Салтыкова-Щедрин: «Главное… чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!»
Для достижения этой «сакральной» цели американизма во всём мире – призывают к многомиллионным жертвам, к стиранию в прах как отдельных людей, так и целых народов.
— Мы не готовы убивать ради Идеи – а вот ради того, чтобы уничтожить все идеи, мы готовы убивать в любом количестве!
Простое отсутствие концептуальной основы западного общества – мутировало в «сакральность ноля». А это уже не просто отсутствие идеологии. Это тоталитарная идеология отсутствия идеологий.
Она уже не смущается массовой смертностью, террором и репрессиями, падением того уровня жизни – с заманивания которым начинала свои игрища с человечеством. Падает? И ладно с ним – главное, что никто ни о чём не думает и все ходят, как пьяные!
+++
Представление об ошибке неразрывно связано с представлением о цели. С целеполаганием. Если у движения есть цель – то, естественно, могут быть и отклонения, движение не в ту сторону. Тогда мы и говорим об ошибке, как о явлении. Отклонение от ясно выраженной цели и есть определение ошибки в самом широком смысле термина.
Если мы снимаем цель – то в самом широком смысле слова снимается и всякое представление об ошибке или ошибочности действий. Какое действие ошибочно, если мы души не спасаем и коммунизма не строим? Да никакое!
Если цели нет, то какая разница, в какую сторону движешься? Ну, пошёл ты налево, или направо, вперёд или назад, в чём ошибка-то?
Сняв цели, превратив себя в самодостаточный замкнутый цикл, «демократия» сделала саму себя «безошибочной». Её кризисы, обвалы, плохая конъюнктура рынка – не следствие управленческих ошибок, а часть унылого круга.
«История кончилась» — об этом Веллингтон говорил в XIX веке, Фукуяма в ХХ, да и сейчас найдётся немало либералов, желающих это повторить.
+++
Как глубоко уходит эта кроличья нора? Очень глубоко! В отсутствие представлений о правильном и неправильном исчезают не только правила (что само собой разумеется). Вслед за правилами (потому что ничего неправильного больше нет – хоть геев в храме венчай, хоть человечину жри, хоть младенцев расчленяй) — растворяется в кислоте безусловной животности рефлексов представление о добре и зле.
То самое, которое так подло и вывернуто эксплуатировал Солженицын, теперь такой же нечитаемый, как и вся «обесточенная» в мире утраченных смыслов литература. Сейчас Солженицын не прозвучал бы от слова «никак» — потому что весь его пафос спекулирует на различении добра и зла, а таковое в современном мире размыто донельзя.
Различение добра и зла, дуализм сортировки всех явлений на добро и зло – основное и первое действие Разума. Разум нужен, чтобы добро увеличивать, а зло искоренять. Если добра и зла нет – то и Разум не нужен.
+++
Любой, кто учился в школе, знает, что инстинкты действуют без Разума, без мысли. Мы не думаем о дыхании – дышим и всё. Сердцу мы биться не приказываем – оно само это делает, даже у младенцев, которые совсем ещё не умеют думать. Если нам плюнуть в глаз, то глаз автоматически, сам по себе, закроется – до того, как мы подумаем о его действиях.
Выстроенное на животных инстинктах рыночное приспособленчество Разума не требует. Биологическое существо имеет определённые программы, единые как для низших, совсем безмозглых, так и для высших его видов.
Инстинкты выстраиваются вокруг выгоды особи, Разум – вокруг сакральности.
Стремление кошки к теплу влечёт её к батарее, притом, что в мире диких лесных кошек никаких батарей центрального отопления нет и быть не может. Кошка тянется к источнику тепла, не задумываясь (да и не умея задуматься) – как и откуда источник взялся. Она может пользоваться батареей или кошачьим кормом притом, что никогда не сумеет их сама воспроизвести в дикой среде.
Рациональность, в самом широком смысле, как явление – изначально выстраивалась от аксиоматики святынь. Разумное дело разумно независимо от того, оплачивается оно или не оплачивается, приносит выгоду особи или не приносит. Точно так же и безумное дело, глупое, иррациональное занятие – не перестаёт быть иррациональным, сколько бы выгод и оплаты конкретная особь с него не поимела.
Истинное и ложное, с точки зрения цивилизации, не сливаются с выгодным и невыгодным биологической особи. Они изначально восходили к неким фундаментальным ценностям культа, отвязанным от текущих выгод или невыгод отдельно взятого существа. Что, собственно, через культы, сперва очень примитивные, потом «обросшие» культурой, и вывело человека из животного мира.
На эти базовые устои рациональности и посягнула рыночная вакханалия в экономике и в головах. Что у нас после инфернальных «реформ» получилось?
А вот что: всякое безумное дело, сколь бы безумным оно не было – в случае его «достойной» оплаты принимается как разумнейшее и достойнейшее занятие. Если идиоты щедро оплачивают твои кривляния, то как бы примитивны твои кривляния ни были, при условии оплаты они – путь к успеху, уважению и разумное дело.
Из этого общего принципа вырастает наркократия, вытесняющая рациократию: если идиоты платят за наркотики, то наркоторговец становится самым богатым человеком. А став самым богатым – он становится и самым уважаемым, авторитетным. А став самым авторитетным – он превращается в образец для подражания, в кумира молодёжи, в Учителя с большой буквы – которому общество внимает, словно паства пастырю на проповеди.
Это касается не только наркоторговцев, но, например, и клоунов с высокооплачиваемым паясничанием, «успешных» порнозвёзд, которые вдруг учат нас с экранов, как нам жить и за кого голосовать, разного рода финансовых аферистов, фартовых воров, и т.п.
Дело вообще не оценивается никак само по себе: само по себе оно кантовская «вещь в себе». Дело оценивается по доходности в самом грубом виде[4], в виде денег, которые бесконтрольно печатает мировая мафия.
Цивилизация при такой оценочной системе выжить не может. Для неё принципиально важно, что разумное – разумно независимо от прибыли или убытка, и безумное безумно на тех же основаниях. Творцы цивилизации отнюдь не купались в роскоши – самые умные люди планеты жили очень просто, часто в нищете, умирали в долгах, как в шелках. Но именно они, а не себялюбивые жулики, заложили преемственность и поступательность прогресса человеческого рода.
В христианстве святыми много веков почитаются нищие отшельники, а отнюдь не преуспевающие ростовщики древних и средневековых городов. Поход за Истиной заставил Серафима Саровского выйти из торгового сословия[5], что было безусловно понятным и ему самому и всему его окружению: хочешь умного – забудь о выгодном[6]. Для американизма это нелепость и мракобесие.
+++
Таким образом, американизм, как активная безыдейность (вооружённая и террористическая борьба со всякой идейностью) – не просто сносит у строения цивилизации одну из «башенок» или «этажей». Американизм по самой своей сути разрушает самые базовые основы, сам фундамент сложения коллективного абстрактного мышления, разумности человеческого вида.
В его основе лежит стремление к «вечному празднику», карнавал нон-стоп, длящийся беспрерывно, «шоу, которое должно продолжаться». А это поиск способов снижения напряжения, сопротивления среды. Но какая линия наименьшего сопротивления? Естественно, падение, качение вниз.
Понятно, что поиск линий наименьшего сопротивления неизбежно порождает всеобщую «игру на понижение». Это породило ту «истерию свободы», которая в итоге обернулась свободой низости.
«Как бы плохо мне ни было – зато меня никто не контролирует». Звериные инстинкты на стороне такого выбора: для них любая из свобод лучше несвободы.
Игра на понижение произвела расхристанного и распоясавшегося социального дегенерата – который готов сражаться, чтобы сохранить своё ничтожество заповедным реликтом. Это тунеядец и халявщик, падкий на халяву, как мартышка среди туристов, клянчащая конфетки, но при выборе между халявой и тунеядством всё же выбирающий тунеядство. Ему и голод не страшен – лишь бы не загнали обратно в «застенки Университета»! Лишь бы только не вернулось «крепостничество» заводской жизни с её строгим распорядком…
А идеальное сочетание для тунеядца и халявщика – «лёгкие деньги». Это его мечта и культ, цель и смысл жизни: как-нибудь пристроиться так, чтобы и деньги были, и напрягаться за них никак самому не пришлось. Чтобы с ветра прилетали… «Из воздуха» делались…
Жажда «лёгких денег» приводит дегенератов на паперть, в электорат «многообещающих» партий-жуликов, на майдан, где мечтают одним махом стать министром, выгнав предыдущего, в каратели, где платят за кровь и скальпы, и, конечно же, в уголовную и полу-уголовную среду.
Хорош или плох был предыдущий уклад жизни, умны или глупы были его укладчики (зачастую они были весьма глупы и недалёки) – «игра на понижение» разматывает и разносит его в хлам. Естественно, не заменяя ничем новым.
_________________________________________________________
[1] В этом смысле очень симптоматична либеральная статья «Оправдание Обломова». Автор многословно убеждает нас, что Обломова неправильно поняли современники. Не права статья А.Н. Добролюбова «Что такое обломовщина», неправильно пишет и Д.И. Писарев, «воспринимая Обломова» «очень плоско и однозначно, как разоблачение негативных явлений русской жизни». Напраслину возводил на Обломова Ф.М. Достоевский — «певец кризисов и катастроф. Повседневность ему глубоко чужда, и так вольготно и мягко чувствующий себя в повседневности Обломов — для него литературный враг». И Чехов зря его ругал. И Герцен не прав, когда писал, что «решительно отдает предпочтение Онегину и Печорину: в них было содержание, был бунт, была трагедия, а Обломов просто лентяй, просто пустое место».
А вот Иннокентий Анненский «дал замечательный, глубокий образ Обломова… герой, который едва ли не есть воплощение самых отрицательных явлений русской жизни, который является объектом сатиры, вместе с тем является предметом восхищения». Дальше автор уже говорит про «свет, который от Обломова исходит».
«Обломова любят. Он умеет внушить любовь, даже обожание… Он, этот слабый, капризный, неумелый и изнеженный человек, требующий ухода, — он мог дать счастье людям, потому что сам имел сердце. Обломов не дает нам впечатления пошлости. В нем нет самодовольства, этого главного признака пошлости. Он смутится в постороннем обществе, наделает глупостей, неловко солжет даже; но не будет ломаться, ни позировать. В самом деле, отчего его жизнь, такая пустая, не дает впечатления пошлости? Посмотрите, в чем его опасения: в мнительности, в страхе, что кто-нибудь нарушит его покой; радости — в хорошем обеде, в довольных лицах вокруг, в тишине, порой — в поэтической мечте… В Обломове есть крепко сидящее сознание независимости — никто и ничто не вырвет его из угла: ни жадность, ни тщеславие, ни даже любовь». Здесь, может быть, сказано не всё и не вся тайна Обломова раскрыта, но путь к этому уже проложен. (из курса «Русский канон в эпоху реализма»).
[2] Доводя этот идеал «оплачиваемого тунеядства» уже до абсурда, О. Макаренко пишет: «Рантье (даже если получил капитал по наследству) зарабатывает себе на жизнь честным, законным трудом — извлекая доход из ценных бумаг. Тот факт, что этот труд занимает у рантье 30 минут в месяц, — столько, сколько надо, чтобы дойти до банка и выпить чашку кофе с личным менеджером, — адекватных людей волновать не должен. В самом деле, если проблема рантье в том, что рантье может работать, но не работает, то ту же претензию можно предъявить и пенсионерам, и сисадминам. Если проблема рантье в том, что «все не могут быть рантье», контраргумент тот же — все не могут быть пенсионерами и сисадминами…
Таким образом, отношение к рантье можно считать лакмусовой бумажкой, показателем свободы общества. Государство, которое относится к рантье нетерпимо, сложно назвать свободным: это или рабовладельческий строй, или, в лучшем случае, военный лагерь, в котором, как известно, «солдат без работы — потенциальный преступник». Государство, которое позволяет людям заниматься своими делами, пока они не нарушают закон и живут «на свои», находится уже на более высокой ступени развития. Для такого государства слово «свобода» — не пустой звук».
[3] Гиперия – сверхсвойство, представляющее из себя чрезвычайное развитие некоего изначального, естественного свойства существа в диком состоянии, естественной среде. Так, например, величина и сладость садовых яблок – это гиперии яблока, в дикой природе мелкого и кислого. Наука – гиперия обыденной любознательности, простого обывательского любопытства: то же самое, но многократно умноженное само на себя.
[4] Доходность тоже бывает разная. Скажем, агроном, который существенно увеличил урожайность пшеницы – тоже добился повышения доходности поля, но в натуральных единицах: он увеличил количество реального, безусловного блага. А если мошенник захватил власть, вместе с властью и печатный станок денег, напечатал много денег, ничего реального не увеличив, то с точки зрения рациональности он только жулик, а с точки зрения рыночных критериев – «молодец, умеет жить».
[5] Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) родился в 1754 году в Курске, в семье богатого именитого купца Исидора и его жены Агафии Мошниных. В монашестве святой носил одну и ту же одежду зимой и летом, сам добывал себе пропитание в лесу, мало спал, строго постился. Около кельи Серафим развёл огород и устроил пчельник. На протяжении нескольких лет аскет питался только травой снытью.
[6] С научной точки зрения несовместимость умного и выгодного вытекает из несовершенства людей. Чтобы добиться доверительного контакта с глупыми, нужно говорить и действовать на понятном им языке и понятным им образом. Хотя учебник высшей математики, безусловно, умнее пакета с наркотиками или «ржаки» в стиле комеди-клаба, при торговле с наркоманами максимальную выгоду получит продавец второго, а не первого. Если хочешь подниматься в рамках «обожения» до высшего Разума, то становишься непонятным для большинства современников, и шансы на коммерческий успех контактов с ними снижаются по мере возрастания интеллектуального отрыва. В окружении глупых людей разбогатеть можно только на глупых делах.