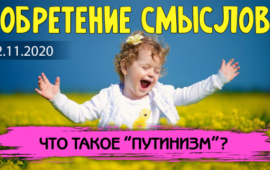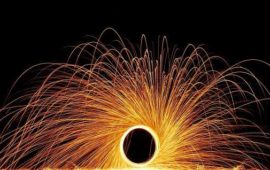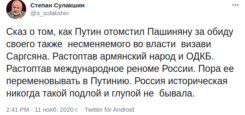Известный политолог Алексей Чадаев, ранее трудившийся на благо партии и правительства, а теперь перешедший на иные хлеба и ставший более откровенным в высказываниях (хотя и раньше не слыл молчальником), написал на своей странице в Фейсбуке пространный и достаточно интересный материал о феномене современной российской политической системы.
Полностью приводить его нет нужды, но приведу немаленький кусок для понимания общей сути размышлений.
Россия после октября 1993 — это само восстановившийся СССР в границах одной РСФСР. Действующая Конституция — это всего лишь декларация об условиях, обеспечивающих такую реинкарнацию.
Главный принцип — тот же: государство, а над ним — надгосударственная идеологическая надстройка. Президент — да, Павловский тут прав — это генсек; в том смысле, что его власть имеет мировую природу, как и власть всех предыдущих генсеков. И это обеспечивается не столько ядерной кнопкой, сколько принципиально негосударственной онтологией этой надстройки — границы которой «нигде не заканчиваются».
АП — это ЦК; именно поэтому это, с одной стороны, неконституционный орган, а с другой — его объём влияния выше, чем даже у правительства. Правительство — это, собственно, тот этаж, с которого у нас начинается «обычное» государство, границы которого как-раз-таки конечны. Оно власть как бы «исполнительная», но в модели с надстройкой только исполнительная и возможна — чтобы исполнять (в смысле проводить в жизнь) волю Партии. Но в этом смысле и Дума с СФ, и вся триада судов — тоже на самом деле власть исполнительная, а не какая-либо другая. Собственно, другой и нет, и быть не может, поскольку вся полнота власти — у Партии.
Ключевая проблема Партии — в том, что в «глобальной геополитической катастрофе» 89-93 у неё оказались ампутированы несколько жизненно важных органов, в частности лобные доли и позвоночник. Но живы базальные ганглии и спинной мозг, и регенерацией руководят именно они, в соответствии с обрывками уцелевшего ДНК. Поэтому партия больше не знает, диктатуру какого именно класса она осуществляет… Она не знает, какое светлое будущее она строит… Она, наконец, даже не может организовать политбюро — его роль выполняют поочередно то Совбез, то неформально-теневой «ближний круг», и в этом смысле оно действительно 2.0, потому что их два и в то же время ни одного.
Но у неё есть Генсек. Который — опять-таки в целях конспирации — называется президентом. И это единственный институт, который выжил — а, выжив, стал отправной точкой структурирования всей системы власти вокруг себя.
Президент — это не персона. Это институт — Институт Первого Лица, от имени и по поручению которого осуществляется руководство государством, но сам по себе государству внеположный. Более того, это единственный подлинно легитимный институт — у всех остальных, включая само государство, эта легитимность делегирована от него.
И это то, почему настолько болезненной оказалась реакция на идею изменения Конституции. Ее нельзя трогать потому, что она является актом учреждения государства институтом президента. Ему проще распустить это государство целиком и учредить взамен него новое — потому что он (институт Президента) есть безусловно, а вот оно — лишь до тех пор, пока он поддерживает в нем жизнь.
Если совсем точно, то не Президент присягает на Конституции, а Конституция присягает на Президенте. И дискуссия об изменениях — это как если публично усомниться в соблюдении ею присяги.
Надо сказать, эти августовские тезисы отчасти созвучны моим собственным выводам, сделанным два с половиной года назад, когда монархические полномочия, имеющиеся у главы государства по Конституции, не просто на неформально-пропагандистском, а на вполне законодательном уровне предложили увенчать монархической сакральностью.
В феврале 2017 года много шуму наделало заявление председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина о необходимости законодательно защитить от оскорблений институт президентства. Вячеслав Викторович, в частности, сослался на США, где «за высказывания в адрес Барака Обамы в 2015 году человека четыре получили серьезные сроки наказания».
Правда, при ближайшем рассмотрении всех случаев, которые теоретически могут являться базисом приведенного примера, оказывается, что дело было чуть иначе. Кого-то посадили, но не за ругань, а за прямые угрозы жизни смуглолицего осквернителя российских подъездов, а один военнослужащий действительно пострадал именно за написанные в соцсетях гадости, но — не посажен в тюрьму, а уволен со службы; и все это — не в одном 2015 году, а «размазано» по всему второму сроку Обамы.
Прискорбно, что и на самых высоких этажах отечественного управленческого класса столь поверхностно подходят к вопросам фактчекинга, но речь сейчас о другом.
Законодательная защита от оскорбления, поругания, ревизии и деформации тех или иных институтов и дискурсов, критически важных для национальной идентичности и крепости государственного здания, дело обычное и распространенное. Под защиту могут попасть религия, Церковь, армия.
У нас в современной РФ законодательно опекается общепринятая версия Великой Отечественной войны, а во Франции в роли объекта опеки выступает французский язык — бережно-суровое регулирование его бытия и отношения к нему даже вызывает вопрос, почему к остальным опорным точкам нации и государственности тамошние власти подчеркнуто халатны.
Традиция криминализации словесных посягательств на правителя страны имеет особенно почтенный послужной список. Правда, в Древнем Риме юридическое понятие crimen laesae majestatis (преступление оскорбления величия) изначально подразумевало в первую очередь оскорбление величия римского народа, но в эпоху императоров, конкретно при Тиберии, стало активно распространяться и на величество.
Уходит корнями в глубину веков и вопрос о соотношении института верховного руководства страны — исторически в первую очередь это монархия — и его конкретного персонификатора, а также о соотношении ипостасей персонификатора.
Наиболее известное исследование корпуса идей, согласно которым в личности правителя причудливо синтезируются человеческое начало и эманация сакрального института верховной власти, — это, конечно, «Два тела короля» Эрнста Канторовича.
Времена меняются, но идеи, пусть и принимая несколько другие формы, остаются. Сейчас, правда, концепция «политической теологии», как ее назвал Канторович, присуща скорее не оставшимся немногочисленным формальным монархиям, а разной степени авторитарности государствам с квазимонархическими и квазифеодальными чертами, одно из которых — наше богоспасаемое Отечество.
Приписывание Владимиру Владимировичу некой сакральности и полумистической природы, позволяющей вместить сущности в количестве более одной, случалось уже не раз. Тут можно вспомнить и фразу все того же Володина: «Есть нынешний президент — есть Россия, нет нынешнего президента — нет России», и экстравагантную концепцию А. Г. Дугина о «солярном» и «лунарном» нынешнем президенте; при всей сомнительной для президента комплиментарности последней (мысль о том, что в нем уживаются две половинки, нерешительная западническая компрадорская и боевая национально-патриотическая, комплимент весьма на любителя) смысл остается прежним — правитель из сферы материального выводится в сферу мистической, сверхъестественной, не совсем человеческой двойственности. Володин эту двойственность предложил юридически закрепить через сакрализацию института президентства.
Все бы хорошо, и все же возникает вопрос: зачем?
Да, нынешний президент обладает популярностью, во многом переходящей в восприятие его как сакральной фигуры; непростой вопрос, насколько это следствие реальных заслуг, мы оставим за пределами данной статьи.
Но все-таки вся сакральность принадлежит конкретно нынешнему президенту, а никак не олицетворяемому им сейчас институту.
Институт президентства вызывает почтение постольку, поскольку он служит вместилищем лично нынешнего президента, а не наоборот.
Когда президентом в 2008 году стал Д. А. Медведев, он поначалу имел за счет авторитета формально ушедшего на задний план предшественника если не такую же, как у него, то сопоставимую популярность, к тому же закрепленную войной 08.08.08.
Но особенности личности жизнерадостного, светского и неполезно энергичного Дмитрия Анатольевича, радостно раскручиваемые СМИ, которые не стремились создать ему сакральность, как у Владимира Владимировича, а, скорее, работали исподволь на противоположный результат, привели к тому, что в 2011 году идея судить за насмешки над ним привела бы к еще большему валу насмешек.
Если отмотать пленку еще дальше, в ельцинский период, то мы увидим: Ельцина могли бешеным напряжением всех сил и средств пропихнуть на второй президентский срок в 1996 году, ему порой, по ситуации, не без успеха лепили имидж «царя Бориса», но мысль прописать в законе, что он, реально обладающий иммунитетом от критики и сатиры, эрзац-царь во главе эрзац-царства, никому в голову не приходила, так как слишком диссонировала с положением дел в стране и с поведением самого гаранта.
Сейчас у президента таких проблем заметно меньше, во всяком случае, так было на момент володинского предложения. Не то что колкости — обычная критика персонально в его адрес вытеснена в маргинальное поле.
Причем, если говорить о либеральных критиках, они и речами, и поведением, и, нередко, даже внешне таковы, что считать их обузой власти весьма сложно — куда больше они похожи на драгоценный подарок судьбы, поневоле вызывающий подозрения относительно его марионеточной сущности.
Что же до национально-патриотических критиков, то они с помощью всех возможных рычагов и способов взяты в плотное кольцо молчания, и для того, чтобы хоть как-то получить доступ на телевидение и страницы прессы, вынуждены прибегать к эвфемизмам вроде «либерального блока правительства» и «плохих бояр».
Если же в результате рушащего все политтехнологии кризиса угроза рейтингу усилится, вряд ли ее удастся купировать запретами.
Так к чему, повторимся, городить огород?
Можно предположить, что верхушка российского управленческого сословия думает о том, как будет обеспечиваться преемственность власти в 2024 году, и, не исключено, горизонт планирования распространяется на несколько сроков вперед, что, конечно, не очень вяжется с нарастающими и становящимися все более грозными тенденциями кризиса во всех сферах.
Однако можно ли в нынешней российской и мировой ситуации заглядывать так далеко — вопрос важный, но не главный.
Главный же, и здесь мы вновь повторимся, — такие дела бумажками не решаются, это на порядок покруче, чем запрет курения в общественных местах.
Передачу верховной власти от поколения к поколению на фундаменте сакрализации ее как института можно обеспечить тремя способами.
Первый — религиозное обоснование. В чистом виде оно сейчас невозможно, а если когда-нибудь в долгосрочной перспективе станет возможным, то лишь как частный случай таких перемен планетарного размаха, что сама тема коллизий института российского президентства будет на общем фоне и даже в самой России весьма второстепенной.
Второй — легитимация делами, то есть несколько (несколько!) поколений правителей в рамках одного режима сеют, пашут, воюют и созидают, чтобы затем одно-два поколения имели возможность пользоваться надежной репутационной подушкой безопасности, которая, однако, если на ней исключительно почивать, быстро приходит в негодность, как это случилось на излете СССР. По этому пункту пока предмета для разговора нет, и не очень уверен, что он появится.
Наконец, третий путь — из поколения в поколение создавать сакральность каждому конкретному правителю исключительно при помощи манипуляций сознанием.
Вряд ли это возможно совсем без реальных достижений, но если и возможно — зачем тогда какие-то дополнительные законы? Получится как в том выпуске «Ералаша», где мальчик в автобусе покупал билет, затем еще один про запас, а на случай, если потеряет оба, имел проездной.
Российский же правящий класс, кажется, хочет пойти по четвертому, очень редкому, северокорейскому пути – этому определению я не придаю положительных или отрицательных оценок, а просто констатирую факт или, скажем так, свое видение.
Дело в том, что существует множество возможных классификаций типов политических лидеров, в частности, с уверенностью можно говорить о таких типах, как вождь нации и отец нации.
«Вождь» практически незаменим в экстремальных, мобилизационных обстоятельствах эпох великих переломов и потрясений, когда нация нуждается в тотальном сплочении (в том числе и кровью), в отказе от многих благ ради светлого завтра или даже самого факта физического выживания, в победе, любые альтернативы которой предельно печальны. Это превосходные воины, пламенные агитаторы, суровые трибуны.
«Отец» же, мудрый и рассудительный, становится необходим в период мирного строительства, когда нация залечивает раны и приступает к построению стабильных и эффективных государственных институтов, обеспечивающих спокойствие и процветание граждан.
К вождям можно отнести Петра I, Троцкого, Муссолини, Мао Цзэдуна, к отцам – Александра III, Аденауэра, Дэн Сяопина.
Знает история и фигуры, сумевшие эволюционировать и вместе с историческими реалиями поменять свой статус с вождя на отца: это Бисмарк, де Голль, Сталин. Франклин Рузвельт же в известной степени на протяжении всей своей деятельности в роли президента США совмещал в себе обе роли.
Северокорейский же вариант предполагает эволюционное преображение от Вождя через Отца (но с сохранением ряда элементов и титула предыдущей ступени) к Сакральному Отцу Страны и Системы, причем системы уникальной и самобытной (так называемой идеологии чучхе).
Такой отец имеет полное право и возможность, едва ли не обязанность перед нацией стать основателем собственной династии, не суть важно, с соблюдением ли при смене поколений формальных всенародно-выборных процедур или вовсе без оных.
В российском случае, правда, династия может быть скорее политической, чем прямо генетической.
Насколько эта модель реализуема в наших условиях, безотносительно даже к нынешней системе? Вопрос сложный и двойственный.
С одной стороны, нам несколько чужд западный подход, который один мой заочный знакомый описывал так: руководитель, даже самый главный в стране, остается лишь наемным чиновником, которого после исчерпания доверия к нему или его полезной деятельности можно немедля выкинуть, через выборы или бунт, как, кхм, использованную салфетку, подобрав на смену нового.
Нам, конечно, хочется царя, пусть даже прячущегося в костюм генсека и президента. Человека, которым хочется гордиться, восхищаться, поднимать тосты и иметь его портрет на стене.
С другой стороны, и в западной демократической традиции новейшего времени периодически оказываются востребованными не только чиновники-«салфетки», но и вожди, и отцы, и даже вожди, превращающиеся к отцов. К упомянутым выше де Голлю, Рузвельту и Аденауэру я бы добавил Гельмута Коля и Черчилля.
Однако и в этом случае сохраняется возможность сказать «нет» вождю/отцу, когда он перестал устраивать «детей». Так и произошло с Черчиллем (сразу после победы во Второй мировой!), де Голлем, Колем. О канцлере-объединителе Германии, кстати, на заре своего президентства хорошо сказал наш чиновник №1: «От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за 16 лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы».
Пожалуй, русским тоже свойственен именно такой «монархизм с оговоркой», причем оговоркой, порой превращающей монархизм в его противоположность – то, о чем выдающийся русский мыслитель Лев Тихомиров говорил: «Русский — по характеру своей души — может быть только монархистом или анархистом».
Сейчас, судя по всем результатам региональных выборов, опросам, рейтингам и иным замерам бытовой и научной социологии, средний россиянин от монархического отношения к положению дел начинает склоняться к противоположному…
И последнее хронологически, но не по важности. В существующей реальности российский институт президентства дуалистичен в том смысле, что, с одной стороны, его рулевой вроде бы всесилен и определяет, кому чем владеть и руководить, а с другой – является сложным по функциям балансиром и координатором между уже владеющими и руководящими, как на виду, так и за кулисой.
Можно сравнить сей статус с крупье в казино, а можно – с опытным шеф-поваром в модном ресторане, имеющем нескольких совладельцев, или известным дизайнером бренда, также находящегося в руках нескольких акционеров.
Шеф-повар/и дизайнер – лицо проекта, он утрясает пожелания и устремления акционеров по стилю, курсу и новым коллекциям/меню, то совмещая малосовместимое и делая из него что-то удобоваримое, то деликатно поясняя, почему одна идея хороша, а другая плоха.
По сути, такой повар/модельер – наемный работник, но работодатели зависят от него не меньше, чем он от них. Ибо на звезде держится проект и заменить кем-то его сложно, а в случае его ухода аудитория может потерять значительную часть интереса и придется сильно постараться для компенсации убытка и нового наращивания потребительского внимания, да и сменщик звезды вряд ли будет столь же искусен в стыковке собственного мастерства и стратегии с мировоззрением акционеров.
Собственно, даже на пике настоящей русской монархии, в романовский санкт-петербургский период, не только элиты зависели от императора, но и он от их настроения, и неверно, по мнению элит или значимой их части, взятый курс мог закончиться коррекцией при помощи табакерки.
Однако если в лихой период после Петра I, в сорокалетие «банановой монархии» царей и цариц гвардейцы и штатские интриганы тасовали в почти произвольном порядке не хуже, чем в Латинской Америке XX веке, то в дальнейшем сложился несколько иной расклад из-за четко обозначенных правил престолонаследия. Царя можно было устранить, как Павла I, но если наследник, как Александр I, не участвовал в заговоре сам и не имел обязательств перед заговорщиками, устранение во многом теряло практический смысл – назначить нужного наследника в произвольном порядке было проблематично. Поэтому элиты, скрепя сердце, старались влиять на объективно наличествующего монарха, а не пытаться состряпать нового. Когда же правилом пренебрегли – в ферале-1917 рухнула и монархия в целом.
Сейчас же несовершенного, но в то же время довольно стабильного равновесия, когда элита и наиболее влиятельные классы и группы подстраиваются под правителя, стараясь выправить его в свою сторону, но не переходя границ, практически не существует.
Если же о нем и можно говорить, то в любом случае оно опирается на конкретный момент и его героя. Система завязана на свое первое лицо в той же степени, в какой оно завязано на нее, и эту довольно хрупкую, на самом деле, точку баланса и сплетения интересов и компромиссов по наследству не передашь.
Задача-то посложнее передачи ядерной кнопки будет.
И мы возвращаемся к тому, с чего начали. К мучающей правящий класс и почти неразрешимой задаче превращения института президентства в династию профессиональных и генетически не связанных друг с другом шеф-поваров политической кухни, при этом еще и сакральную в глазах харчующегося (правда, в основном бизнес-ланчами, основное меню для самих акционеров и их друзей) «глубинного народа».